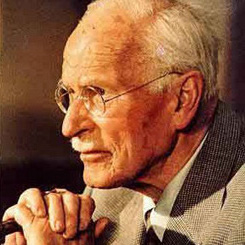Внутренний супервизор: покровитель, тиран или вдохновитель?
Н. Писаренко, М. ПрилуцкаяВнутренний супервизор: покровитель, тиран или вдохновитель?
Писаренко Н.А., юнгианский аналитик, член РОАП, IAAP, суперизор РОАП
Прилуцкая М.И., юнгианский аналитик, член РОАП, супервизор РОАП
Появление внутренней тиранической установки
Свобода мышления, свобода рефлексии — самые важные ценностные ориентиры для аналитика, они лежат в основе аналитического прогресса. Энциклопедические знания и академический подход, лишенные внутренней свободы, оказываются выхолощенными и подходят разве что лектору, но никак не практикующему аналитику. В то же самое время мы все знаем, каково быть «плохим аналитиком», ощущая себя растерянным или испуганным непонятными реакциями пациента. В этот момент аналитик обычно и испытывает соблазн спрятаться за теоретическими концептами, создать себе убежище под защитой авторитетов.
Если в этот момент к нему присоединится преподаватель или супервизор, который будет укреплять аналитика в его ригидной установке, вместо того, чтобы поощрять его к смелому исследованию, мы вне всяких сомнений получим бедную, затхлую, бесплодную аналитическую пару.
Такая ситуация берет свое начало в развитии тиранического интроекта в психике аналитика. Этот интроект может интенсивно проецироваться на супервизора, преподавателей, научные школы или известных ученых. Он активно противостоит диалогу (как внешнему, так и интрапсихическому) и может даже проективно индуцировать супервизора к большей конфронтации и давлению. Фигура внутреннего тиранического супервизора выступает на первый план, если способность к внутреннему диалогу заблокирована, нет ни воли, ни желания вести его, если преобладает желание властвовать. Эта фигура начинает укрепляться и диктовать аналитику дальнейшие стратегии работы, сталкивая в зону ригидности и отыгрываний. Она никогда не действует в интересах аналитика, хотя и кажется надежным, авторитетным союзником.
По сути, мы видим здесь внутреннего рабовладельца, понуждающего раба к деятельности; разумеется, думающий или гибко реагирующий, склонный к игре и творчеству раб – всегда враг своего хозяина. Так формируется контрпродуктивная терапевтическая установка, и нередко это ведет к аутодеструктивному поведению аналитика или к разрушению практики. Разрушать себя, привести себя в точку неразрешимого кризиса становится бессознательным способом сопротивляться жестокому хозяину.
В других случаях аналитик формирует бессознательный союз с внутренним тираном; он может стать чрезмерно жестоким, бесчувственным как к своему состоянию, так и к состоянию, словам и реакциям пациента.
Эта сторона вопроса, конечно же, является теневым полем анализа, и в некоторой степени присуща любому процессу аналитической работы. Мы не должны игнорировать ее, понимая, насколько важно ее осознавать, сублимировать и контролировать[i].
Работа внутреннего тирана
Внутренний тиранический супервизор блокирует игровую установку аналитика. Его «правление» не предполагает развития, он использует своих «слуг», выкачивая из них силы и саму жизнь. Как и в реальной жизни, хозяин-эксплуататор не заинтересован в долгой жизни или процветании рабов.
Так во внутреннем процессе усиливается самоэксплуатирующая установка. Такой внутренний психический процесс базируется на неосознанных, но мощных оральных и анальных инфантильных влечениях в их примитивной форме, не интегрированных в зрелое Эго. Если эти влечения не были достаточно полно проработаны в личном анализе аналитика, они бывают замаскированы под травматические конфигурации, которые упоительно «проживались», но не были действительно проработаны и ментализированы.
Рабовладельческая ситуация не предполагает развитие и процветание подчиненной части. Раб лишен творчества и удовольствия в труде, так как все плоды труда принадлежат хозяину. Он только инструмент, не обладающий способностью к игре и получению удовольствия. Поэтому можно понимать тираническую фигуру внутреннего супервизора как изымающую из процесса работы игру, удовольствие, радость, интерес и свободное познание. Эта фигура обкрадывает аналитический процесс, либидинозно обедняя его.
Анализ как игра
Помимо аспекта удовольствия и удовлетворения игра вносит в нашу работу фактор неопределенности. Именно он делает игру интересной, захватывающей, дает импульс азарта, вдохновения. Самый совершенный игрок не может быть уверен в победе, иначе игра потеряет смысл. Настоящие игроки хотят играть с сильным противником, для них рост важнее победы. Неопределенность, конкуренция и случайности вносят в процесс игры и жизни настоящую полноту и многоаспектность. Иногда ошибки, сбои, случай могут выступить единственным каналом выхода из-под власти комплекса. Ошибки и случайности - это не просто помехи, а естественная часть игры.
Случайность, гибкость, трикстерность, игра глубоко ненавистны внутреннему тирану, как были бы ненавистны жестокому хозяину веселящиеся и освобожденные рабы. Игра рождает новое, то, что «отодвинет» комплекс. Иногда в зоне большой травмы, там, где логика и рацио не дают облегчения, может сработать внезапный фактор, неожиданный феномен: оговорки, сбои расписания, обмолвки. Там на помощь приходят новые силы бессознательного, до этого времени, невидимые, спящие. Иногда они, и только они, могут противостоять раздутому негативному комплексу!
Разумеется, кроме тиранического супервизора, внутри аналитика есть разные аспекты профессиональной идентичности, разные аналитические субличности. Некоторые из них требуют освобождения и раскрытия, права на реализацию. В случае успешного познающего анализа в терапевтическую игру они вступают по очереди, взаимодействую и вызывая к жизни разные субличности клиента. Это несет освобождение и пользу, так как разные аспекты клиента могут быть проявлены и восстановлены. Такая работа имеет огромные преимущества, она позволяет проявиться всем аспектам клиента.
Важно отметить, что если мы допускаем ассортимент субличностей (не ограничиваясь парой тиран/раб, победитель/побежденный), то уходит и идея непременно выиграть свою партию. Фантазии о победе отходят на второй план. В центр интереса помещаются азарт, любопытство. Игра становится жизнью, а жизнь – игрой.
Когда клиент может интегрировать гибкую установку по отношению к своему внутреннему миру и обстоятельствам жизни (принять их в игру, следовать за игрой), он становится по-настоящему свободным. Для этого и аналитик должен быть готов принять и осмыслить свою внутреннюю свободную игру, театр субличностей; это позволит ему легко и с удовольствием скользить в потоках смыслов, ассоциаций, идей.
Внутреннее разнообразие требует выхода и интеграции через опосредование игрой. Поэтому дети часто играют в довольно странные игры! Игра в похороны, в преступников, эротизированные игры итп - это попытка не только изжить сложный опыт, но и ментализировать свои влечения в культурной форме.
Творческий живой потенциал игры основан на ее многоаспектности. Она обеспечивает возможность творческого синтеза, выбор различных путей выхода из комплекса, больший ассортимент позитивных решений, которые не очевидны ни клиенту, ни аналитику в начале работы. Именно игра, а не революция, лечит тираническую природу. Она может стать пространством трансформации этой жестокой ограничивающей внутреннней фигуры. Как пишет в своей статье о фигуре тиранического отца У. Колманн, «основной вопрос борьбы с тираном состоит в том, чтобы не стать бОльшим тираном»[ii].
Тиранический внутренний супервизор дает иллюзию надежности, но это эксплуататорская надежность, регрессивная и ригидная. Она содержит иллюзию стабильности, но на самом деле сужает и обедняет аналитический взгляд. Можно представить, насколько тяжело может быть супервизорам находиться под проекцией такой части и выдерживать ее.
Поэтому ценность аналитика заключается не в том, что он знает ответы на все вопросы, а в том, что он не боится вопросов, не боится незнания, имеет любопытство к неизвестному и хочет этих вопросов, а не стремится укрыть в тираническом убежище. Свобода предполагает трансформацию внутреннего образа мышления и одновременно рождается из этих изменений.
Свобода, как аналитический уроборос, должна лежать и в начале, и в конце работы, она освобождает клиента не только в настоящем, но и в прошлом, возвращая утраченную когда-то давно радость игры и жизни.
[i] Если бы эта тираническая сила применялась бы символически, была бы опорой саморегуляции и дисциплины, она могла бы приносить аналитику пользу, будучи встроена в отцовскую функцию.
[ii] Colman W. – Tyrannical omnipotence in the archetypal father. Journal of Analytical Psychology, vol.45, is.4, Dec. 2002.